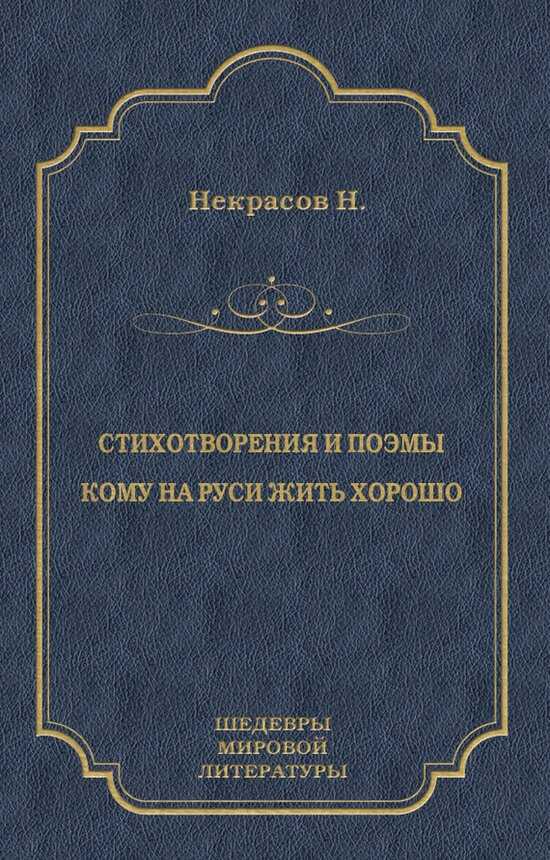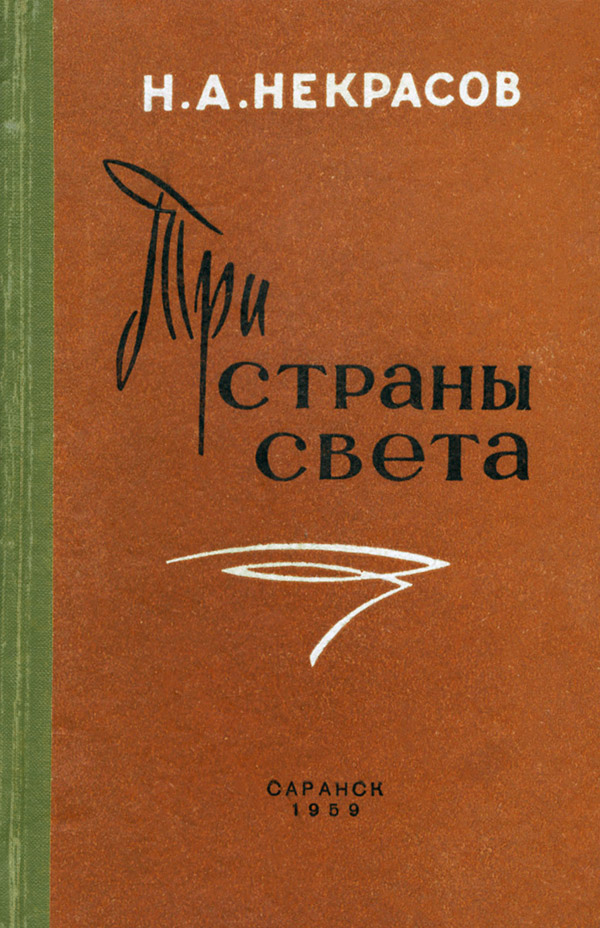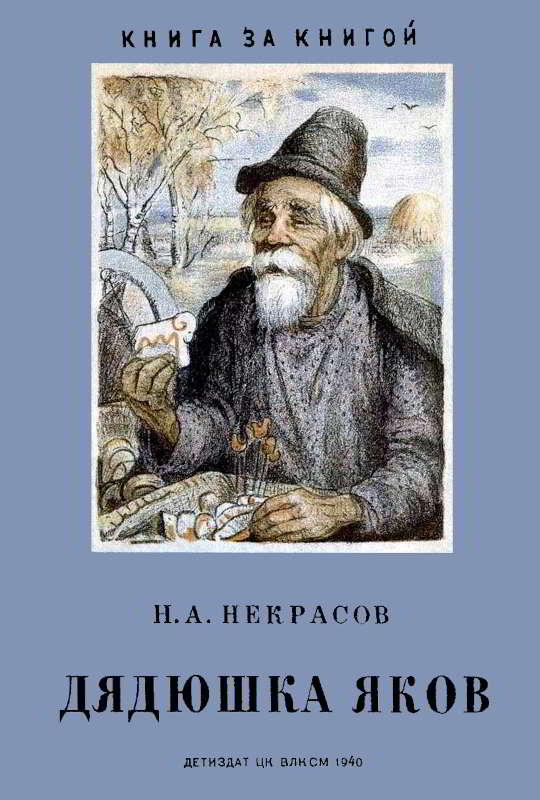лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского»[1].
Об этих симпатиях свидетельствует хотя бы та борьба с либералами, которую вел Некрасов в своем «Современнике» плечом к плечу с Чернышевским и Добролюбовым в 1859–1861 годах.
Влияние «Современника» росло с каждым годом, но вскоре над ним разразилась гроза.
В 1861 году умер Добролюбов. Через год был арестован и (после заключения в крепости) сослан в Сибирь Чернышевский. Правительство, вступившее на путь мстительной расправы со своими врагами, решило уничтожить ненавистный журнал. Вначале оно приостановило «Современник» на несколько месяцев (в 1862 году), а потом прекратило совсем (1866).
Долго существовать без журнальной трибуны Некрасов не мог. Не прошло и двух лет, как он взял в аренду захиревший журнал «Отечественные записки»; в качестве соредактора он пригласил великого сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина.
«Отечественные записки» стали таким же боевым журналом, как и «Современник», они следовали революционным заветам Чернышевского, в них впервые проявился во всей своей мощи сатирический гений Салтыкова-Щедрина.
Цензура жестоко преследовала «Отечественные записки», и Некрасову (совместно с Салтыковым) приходилось вести с него такую же упорную борьбу, как и во времена «Современника».
VI
Журнальная работа утомляла поэта, и он бывал поистине счастлив, когда ему удавалось вырваться из душного города куда-нибудь в деревенскую глушь. В деревне, среди крестьян, он чувствовал себя легко и привольно и забывал все свои городские тревоги, особенно если при этом ему случалось хорошо поохотиться. Охота с детства была его любимейшим отдыхом. Захватив собаку и ружье, он на несколько дней уходил с кем-либо из местных крестьян побродить по лесам и болотам и возвращался домой с новыми силами, освеженный и бодрый.
— Какой восторг! — писал он об охоте: —
…За перелетной птицей
Гонюсь с ружьем, а вольный ветер нив
Сметает сор, навеянный столицей.
Охота была для него лучшим средством дружеского сближения с народом. Он говорил, что в деревне охотниками обычно бывают талантливейшие из русских крестьян. Сюжет его знаменитой поэмы «Коробейники» был рассказан ему во время охоты его «другом-приятелем», костромским крестьянином Гаврилой Захаровым. Странствуя с ружьем из деревни в деревню, Некрасов попадал и на сельские ярмарки, и на крестьянские свадьбы, и на сходки, и на похороны, и на церковные праздники, знакомился со множеством деревенских людей, наблюдал их нравы и обычаи и жадно вслушивался в каждое слово их непринужденных речей. С каждым годом он, если так можно выразиться, все больше и больше влюблялся в народ. Пристально изучая крестьянскую жизнь, он стал исподволь готовиться к великому литературному подвигу — к созданию монументальной поэмы, прославляющей русский народ, его великодушие, его героизм, его титанические духовные силы.
Поэма эта — «Кому на Руси жить хорошо». Некрасов начал писать ее на 42-м году жизни, в пору полного расцвета своего дарования.
Героем этой поэмы он избрал не какого-нибудь одного человека, а весь русский народ, все многомиллионное «мужицкое царство», «кряжистую Корёжину», «сермяжную Русь». Такой всеобъемлющей и всенародной поэмы еще не бывало в России.
С первого взгляда содержание поэмы представляется очень печальным. Уже самые названия деревень — Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка тож — говорят о безрадостном существовании их жителей. И хотя одна из глав поэмы изображает деревенских счастливцев и даже носит название «Счастливые», но на самом-то деле, как выясняется из ее содержания, эти «счастливые» глубоко несчастны — замученные нуждою, больные, голодные люди. И сколько человеческих страданий в той части поэмы, где изображается жизнь крестьянки Матрены!
Нет косточки неломаной,
Нет жилочки нетянутой, —
говорит эта крестьянка о себе. Вообще, когда читаешь первые главы поэмы, кажется, что на вопрос, поставленный в ее заголовке: «кому на Руси жить хорошо?», можно дать единственный ответ: каждому живется очень плохо, особенно же «освобожденным» крестьянам, о счастье которых Некрасов в той же поэме писал:
Эй, счастие мужицкое!
Дырявое с заплатами,
Горбатое с мозолями,
Проваливай домой!
Некрасов начал эту поэму тотчас же после «освобождения» крестьян. Он очень хорошо понимал, что, в сущности, никакого освобождения не было, что крестьяне по прежнему остались под ярмом у помещиков и что, кроме того,
На место сетей крепостных
Люди придумали много других.
Но откуда же в этой грустной поэме, изображающей столько скорбей и трагедий, тот бодрый тон, который чувствуется в ней буквально на каждой странице? Почему самый голос поэта звучит так оптимистично и радостно? Почему все в этой поэме так «ладно и складно, так вкусно и метко», почему в ней столько шуток, прибауток, забавных эпизодов и речей? (Смотри, например, «Сельскую ярмонку» или «Пьяную ночь».)
Иначе, в сущности, и быть не могло, ибо всякая поэма о русском народе, даже такая, где повествуется о его тысячелетних страданиях, не может не вызвать в поэте светлых и радостных чувств — столько духовной красоты и величия открывается ему в жизни народа.
В центре своей эпопеи Некрасов недаром поставил Савелия, «богатыря святорусского», человека титанических сил, как бы созданного для революционной борьбы. По убеждению Некрасова, таких богатырей миллионы:
Ты думаешь, Матренушка,
Мужик — не богатырь?..
Цепями руки кручены,
Железом ноги кованы.
Спина… леса дремучие
Прошли по ней — сломалися…
И гнется, да не ломится,
Не ломится, не валится…
Уж ли не богатырь?
Рядом с Савелием в поэме встают привлекательные образы и Якима Нагого, вдохновенного заступника за честь трудового крестьянства, и Ермила Гирина, деревенского праведника, проникнутого чувством социальной ответственности, и Матрены Корчагиной, героической женщины, сумевшей отстоять достоинство своей человеческой личности в условиях разнузданного произвола и рабства. Самым своим существованием эти люди свидетельствовали, какая несокрушимая сила сокрыта в народной душе. Можно было не сомневаться, что у такого народа есть все возможности завоевать себе счастье.
Отсюда оптимизм этой поэмы Некрасова:
Сила народная,
Сила могучая —
Совесть спокойная,
Правда живучая!
Сознание этой нравственной «силы народной», предвещавшей верную победу народа в борьбе за счастливое будущее, и было источником той радостной бодрости, которая чувствуется даже в ритмах великой поэмы Некрасова.
VII
Поэма писалась в течение нескольких лет, но в начале семидесятых годов Некрасова отвлекла от